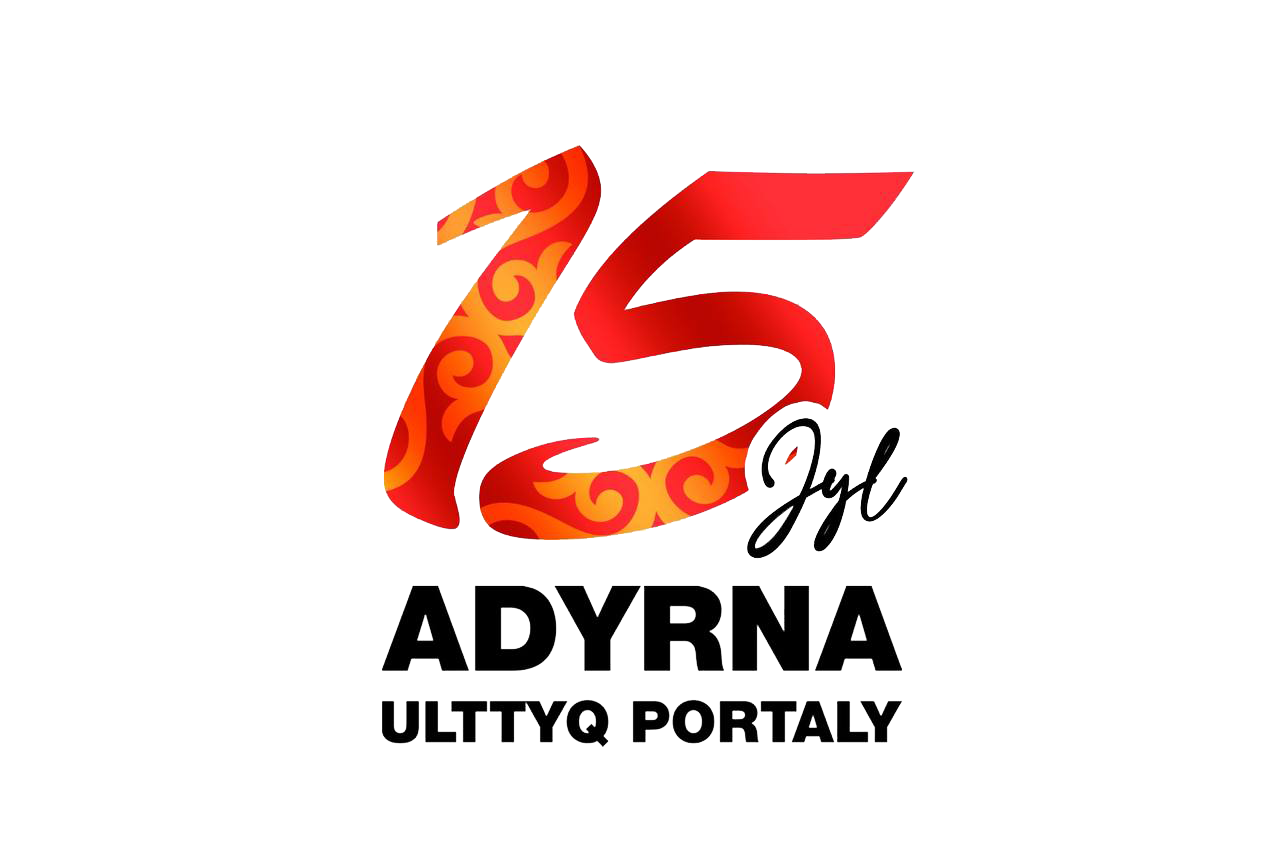А где-то там, в лабиринтах Кремля,
Бродит чудовище трубкой дымя!
Бога низвергнув, вознёс Сатана,
В богобезверии боговождя!
Кружится, кружится чёрной бедой,
Ворон, пресыщенный плотью людской,
Реет над душами ужас немой,
Голодно, голодно в юрте родной.
Тени, что были когда-то людьми,
Рыщут, звериные скаля клыки,
Кости, как ветки, торчат из земли,
Трупов гниющих в голодной степи.
Тощие мощи, приникнув к земле,
Вязнут как в топкой, болотной воде,
Веки в тяжёлом смыкаются сне,
Чтоб раствориться в глухой пустоте.
В тёплой прохладе бессонной ночи,
Слышно, как где-то стрекочут сверчки,
Тлеет огарок последней свечи,
Блекнут на стенах дрожащих лучи.
Женщина нежно иссохшей рукой
Гладит ребёнку животик пустой:
"Ты не ходи за порог, дорогой,
Чьей-то окажешься лёгкой едой!"
Сын её старший лежит на полу,
Съёжившись, хрипом сверлит тишину,
Зябко от хвори и сухо во рту,
Страшно, уснув, не проснуться к утру.
В бликах луны, где раздвинулась мгла,
Тенью мелькнула фигура отца,
Шлёт воспалённого мозга игра
Злые картины ушедшего дня.
"Папа, постой, это ты в темноте
Сердце терзаешь разбитое мне?
В подлом доносе по чьей-то вине
Стал ты врагом в обречённой стране.
Бил тебя в спину прикладом конвой,
Вёл, избивая под матери вой,
Ты же, разбитой тряся головой,
Шумно давился кровавой слюной."
Быстро густела в безветренный зной
Кровь, разливаясь багровой зарёй,
Лезла из ран тёмно-вязкой смолой,
Падая сгустками плоти живой.
Вместо улыбки с родного лица
Алым разрывом зияла дыра.
Вдруг изрыгнула утробно хрипя
Слово "прости" еле слышно она.
Вслед ему голос надрывной струной
Дрогнул от слёз задыхаясь: "Постой!"
Сын, озирая пугливо конвой,
Плакал: "Отец, ты вернёшься домой!?"
Рядом бежал, как побитый щенок,
Чувствуя дрожь своих худеньких ног,
Глухо ударил казённый сапог
Детское тельце как пыльный мешок.
 Взвыло в бессилии сердце отца,
Чувствуя скорую близость конца,
Криком собрав по крупицам себя,
Прыгнул в объятья последнего дня.
Ржёт опъянённый от власти солдат,
Топит в изломанном теле приклад,
Бьёт торжествующей смерти набат,
В лужах крови улыбается ад!
Скрылся за жёлтою пылью конвой,
Тело отца волоча за собой,
Плоть остывала скользя за арбой,
Плакала степь безутешной вдовой.
Воет в разграбленной юрте пустой,
Ухая ветер, тоскою ночной,
Мечется бредя в горячке больной,
Всё ему чудится образ родной.
—Снова, отец, ты мерещишься мне,
Тенью мелькнёшь и расстаешь во мгле!
Где бы ты ни был, в какой стороне,
Знаю ты жив, ты вернёшься ко мне!
—Ты не узнаешь, сынок, никогда,
Где я, зачем увели и куда.
За плесневелую горстку пшена
Сгинул под белой парчой ковыля!
Скрылись виденья в хранилищах мглы,
Плач разорвал пелену тишины,
Варит мать детям подобье еды,
Мутный отвар старой кожи овцы.
Взвыло в бессилии сердце отца,
Чувствуя скорую близость конца,
Криком собрав по крупицам себя,
Прыгнул в объятья последнего дня.
Ржёт опъянённый от власти солдат,
Топит в изломанном теле приклад,
Бьёт торжествующей смерти набат,
В лужах крови улыбается ад!
Скрылся за жёлтою пылью конвой,
Тело отца волоча за собой,
Плоть остывала скользя за арбой,
Плакала степь безутешной вдовой.
Воет в разграбленной юрте пустой,
Ухая ветер, тоскою ночной,
Мечется бредя в горячке больной,
Всё ему чудится образ родной.
—Снова, отец, ты мерещишься мне,
Тенью мелькнёшь и расстаешь во мгле!
Где бы ты ни был, в какой стороне,
Знаю ты жив, ты вернёшься ко мне!
—Ты не узнаешь, сынок, никогда,
Где я, зачем увели и куда.
За плесневелую горстку пшена
Сгинул под белой парчой ковыля!
Скрылись виденья в хранилищах мглы,
Плач разорвал пелену тишины,
Варит мать детям подобье еды,
Мутный отвар старой кожи овцы.
 С окон бесшумно сползла как змея,
Выпустив алое жало заря,
Траурной вестницей брезжит неся,
Чёрные тяготы нового дня.
"Слушай, сыночек, ты должен понять,—
К старшему сыну склоняется мать,—
Стелется холодом мёртвая гладь,
Больше нельзя нам и нечего ждать.
Сколько осталось нам дней и ночей,
Ложью клеймённых в игре палачей,
Среди запуганных, бедных людей
Выжить теперь нам ещё тяжелей.
Всё безысходностью предрешено,
Путь наш к аулу отца моего.
Что, кроме смерти здесь ждёт? Ничего!
Может быть, там нам спастись суждено."
Так мать решила. И следом за ней
Шли дети мимо зловещих теней,
Еле живых, истощённых людей,
Прочь от голодных двуногих зверей.
Шли дети тихо за матерью вслед,
Вот уже пройден угрюмый хребет,
Огненным оком пылает рассвет,
Знают, пути им обратного нет.
Шли, созерцая закат и восход,
За равнодушный степной горизонт,
Шли мимо юрт, где никто не живёт,
Будто бы вымер казахский народ.
Смрадом исходит мясной перегной,
Степи покрыв, как гнилою ботвой,
Хрустнут вдруг кости под шаткой ногой,
Полуживого зовя за собой.
Пройдено сколько, не помнит никто,
Время смешало где после, где до,
А в воспалённом мозгу лишь одно:
Мысли о пище, какой—всё равно.
Рыбе, заплывшей на мелкое дно,
Птице, себе повредившей крыло,
Сладких кореньях, личинках—всё то,
Что их от смерти спасти бы смогло.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву—ничего.
Где же ты, где ты, живое село?
Дышит в затылок всесильное зло.
С окон бесшумно сползла как змея,
Выпустив алое жало заря,
Траурной вестницей брезжит неся,
Чёрные тяготы нового дня.
"Слушай, сыночек, ты должен понять,—
К старшему сыну склоняется мать,—
Стелется холодом мёртвая гладь,
Больше нельзя нам и нечего ждать.
Сколько осталось нам дней и ночей,
Ложью клеймённых в игре палачей,
Среди запуганных, бедных людей
Выжить теперь нам ещё тяжелей.
Всё безысходностью предрешено,
Путь наш к аулу отца моего.
Что, кроме смерти здесь ждёт? Ничего!
Может быть, там нам спастись суждено."
Так мать решила. И следом за ней
Шли дети мимо зловещих теней,
Еле живых, истощённых людей,
Прочь от голодных двуногих зверей.
Шли дети тихо за матерью вслед,
Вот уже пройден угрюмый хребет,
Огненным оком пылает рассвет,
Знают, пути им обратного нет.
Шли, созерцая закат и восход,
За равнодушный степной горизонт,
Шли мимо юрт, где никто не живёт,
Будто бы вымер казахский народ.
Смрадом исходит мясной перегной,
Степи покрыв, как гнилою ботвой,
Хрустнут вдруг кости под шаткой ногой,
Полуживого зовя за собой.
Пройдено сколько, не помнит никто,
Время смешало где после, где до,
А в воспалённом мозгу лишь одно:
Мысли о пище, какой—всё равно.
Рыбе, заплывшей на мелкое дно,
Птице, себе повредившей крыло,
Сладких кореньях, личинках—всё то,
Что их от смерти спасти бы смогло.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву—ничего.
Где же ты, где ты, живое село?
Дышит в затылок всесильное зло.
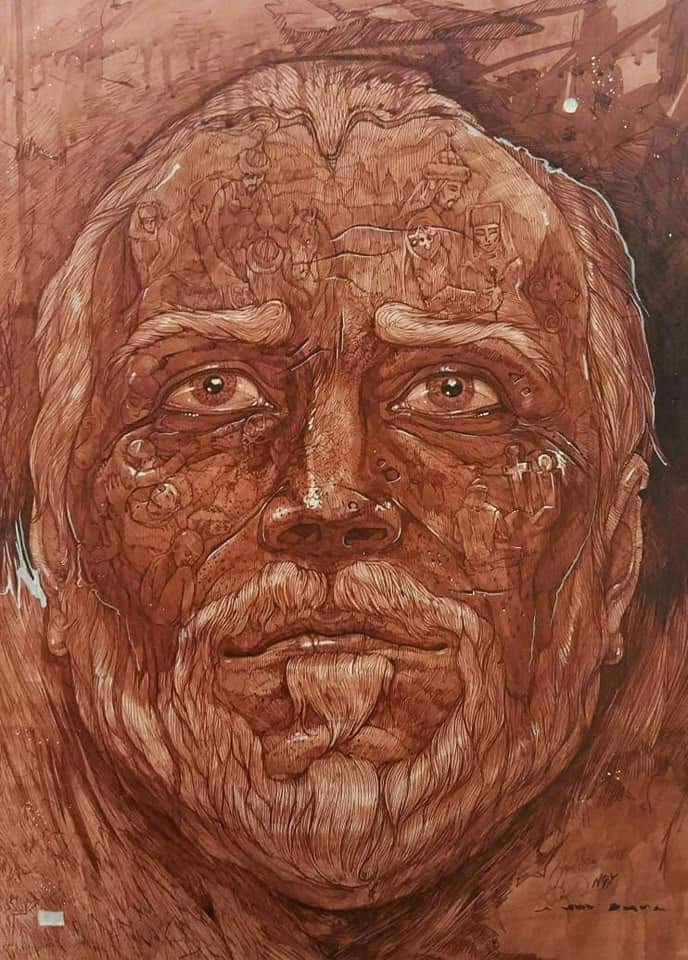 Младший, не чувствуя собственных ног,
Словно засохший осенний листок,
В землю уткнулся, свернувшись в клубок,
Долгих мучений тяжёлый итог.
В замершем вздохе земного конца
Таяла жизнь, как на солнце роса,
Мечется мать, миг утраты кляня,
Крепко к груди прижимая дитя.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно,
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Вдруг нежно-робкий порыв ветерка,
Сквозь оголённые нервы скользя,
Запахом пряным сознанье пьяня,
Тихо шепнул: "Где-то рядом еда!"
Зверем сорвавшимся диким с цепи,
Ринулась мать, чуя запах еды,
Гончей, напавшей на чьи-то следы,
Силой слепой, материнской любви.
"Мама успеет, сынок, потерпи!—
Все повторяла молитвой в пути,—
Боже, Всевышний, услышь, помоги,
Сына от смерти, прошу, сбереги!"
Горько вздыхает с немой синевы,
Тенгри, забытый когда-то людьми.
В недрах распятой врагами земли,
Плачет Умай, захлебнувшись в крови!
Вот показался дымок вдалеке,
Женщина сжалась, пригнувшись к земле,
Затрепетала надежда в душе,
Тело гоня к долгожданной еде.
К месту спасенья все ближе она,
Вот уже слышно трещанье костра,
Брызги кипящей сорпы из котла,
Вкусом дурманящим сводят с ума.
Вдруг впереди чьей-то тенью легла
В жёлтой траве, притаившись, беда.
Страхом расправы трепещет душа,
Стынет мать в ужасе, еле дыша.
Дремлет угроза за плёнкою сна,
В невозмутимом покое лица,
Эхом разносит вокруг тишина
Сытый, размеренный храп мужика.
Мозг дребезжит оголённой струной,
Собственный шаг будто чей-то, чужой,
Сердце, цепляясь за образ родной,
Гонит вперед, страх глуша, за едой.
Лижут чугун полымя языки,
В брызгах шипящих от струек сорпы,
Взбухли на пальцах худых волдыри,
Падает крышка в прохладу травы.
В ужасе диком застыла она,
Тщетно сторгая, что видят глаза,
Кружит в наваристой муте котла,
Кость оголив, человечья нога!
Грозно нависла вокруг тишина,
Бреши сознанья безумьем скребя,
Прячась в остатках последнего "я",
Ждет терпеливо забвения тьма.
Раненый мозг как в болезненном сне
Вяло блуждает в немой пустоте,
Ближе сознание к спасительной мгле,
Ближе к ужасной, но всё же еде.
"Ну же, попробуй, не бойся меня!
Что для тебя я? Всего лишь еда!"
Взгляд завороженно смотрит туда,
Где то пугает, то манит она.
Младший, не чувствуя собственных ног,
Словно засохший осенний листок,
В землю уткнулся, свернувшись в клубок,
Долгих мучений тяжёлый итог.
В замершем вздохе земного конца
Таяла жизнь, как на солнце роса,
Мечется мать, миг утраты кляня,
Крепко к груди прижимая дитя.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно,
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Вдруг нежно-робкий порыв ветерка,
Сквозь оголённые нервы скользя,
Запахом пряным сознанье пьяня,
Тихо шепнул: "Где-то рядом еда!"
Зверем сорвавшимся диким с цепи,
Ринулась мать, чуя запах еды,
Гончей, напавшей на чьи-то следы,
Силой слепой, материнской любви.
"Мама успеет, сынок, потерпи!—
Все повторяла молитвой в пути,—
Боже, Всевышний, услышь, помоги,
Сына от смерти, прошу, сбереги!"
Горько вздыхает с немой синевы,
Тенгри, забытый когда-то людьми.
В недрах распятой врагами земли,
Плачет Умай, захлебнувшись в крови!
Вот показался дымок вдалеке,
Женщина сжалась, пригнувшись к земле,
Затрепетала надежда в душе,
Тело гоня к долгожданной еде.
К месту спасенья все ближе она,
Вот уже слышно трещанье костра,
Брызги кипящей сорпы из котла,
Вкусом дурманящим сводят с ума.
Вдруг впереди чьей-то тенью легла
В жёлтой траве, притаившись, беда.
Страхом расправы трепещет душа,
Стынет мать в ужасе, еле дыша.
Дремлет угроза за плёнкою сна,
В невозмутимом покое лица,
Эхом разносит вокруг тишина
Сытый, размеренный храп мужика.
Мозг дребезжит оголённой струной,
Собственный шаг будто чей-то, чужой,
Сердце, цепляясь за образ родной,
Гонит вперед, страх глуша, за едой.
Лижут чугун полымя языки,
В брызгах шипящих от струек сорпы,
Взбухли на пальцах худых волдыри,
Падает крышка в прохладу травы.
В ужасе диком застыла она,
Тщетно сторгая, что видят глаза,
Кружит в наваристой муте котла,
Кость оголив, человечья нога!
Грозно нависла вокруг тишина,
Бреши сознанья безумьем скребя,
Прячась в остатках последнего "я",
Ждет терпеливо забвения тьма.
Раненый мозг как в болезненном сне
Вяло блуждает в немой пустоте,
Ближе сознание к спасительной мгле,
Ближе к ужасной, но всё же еде.
"Ну же, попробуй, не бойся меня!
Что для тебя я? Всего лишь еда!"
Взгляд завороженно смотрит туда,
Где то пугает, то манит она.
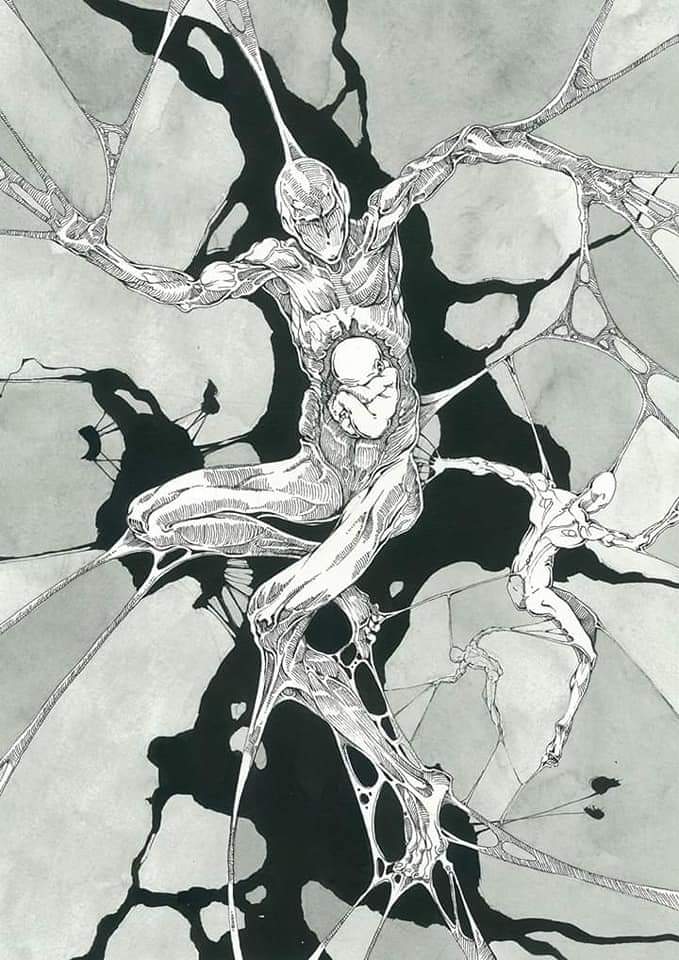 Шаром калёным гудит голова,
Воет желудок, к спасенью гоня,
Вдруг, как тугая, стальная клешня,
Горло сдавила мужская рука.
Плотно накрыла глаза пелена,
Душу сдавила глухая стена,
Сыто-хмельным возбужденьем горя,
Тело он женское смял под себя.
Всё неизменно в природе Кремля,
В поисках образа злого врага.
"Все виноваты, но только не я,
Правда одна, но лишь та, что моя"!
Младшего сына пустые глаза,
Сверлят предсмертной тоской небеса,
Тлеющим взором стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело,
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Струйка сорпы орошала нутро,
В тощее тельце вдыхая тепло.
Старший, как зверь, исхудавший и злой,
Впился зубами в кусочек мясной,
Крючит от боли желудок больной,
Жадно давясь подступившей слюной.
Хмурятся тучи как неба укор,
В землю мать прячет свой пепельный взор,
Бёдра дрожат, обнажая позор,
Там, где разорван на части подол.
Воздух тяжёл, воздух зол, ядовит,
Червь из глазных выползает орбит.
Власти народа багровый зенит,
Кровью во имя него же омыт!
День остывает в разливах зари,
Снова к надежде размытой в пути,
Люди идут, но гнетёт изнутри,
Страх бесконечности мёртвой степи.
Там, где лениво паслись табуны,
Пыль поднимали, резвясь, скакуны,
Звонкие струны казахской домбры
Пели о счастье, добре и любви.
Там, распахнув ненасытную пасть,
Брызжет бедой ядовитая власть,
К власти дорвавшись, безродная масть
Грязно излила животную страсть!
Там мать, жена, дочь, ребёнок, сосед,
Прежних понятий стирается след.
Есть только голод душевных калек,
Где человечье забыл человек.
Там в лунном свете безликих ночей,
Роют могилы усопших людей,
В тусклом мелькании страшных теней
С тел вырезают места посвежей.
"Папа, спаси!"—эхо сдавленных слов
Ночь разнесла миллионам отцов,
Крик детской боли от рвущих клыков,
Лёгкой добычи для стаи волков.
Чествуя ложь большевистской чумы,
Лживые песни разносят рабы,
Ржа на цепи от обилья крови
Въелась, сдавив горло нищей страны.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву ничего.
Где же спасенье и есть ли оно?
Сверлит глаза безысходностью зло.
Спутались запад, юг, север, восток,
Путь безнадёжный как в пропасть бросок.
Долгих мучений тягучий виток,
Старший без сил молча валится с ног.
В небе тяжёлом плывут облака,
Глядя на ужас земной свысока,
В чёрную бездну срываясь, душа
К Богу взывает, спасение ища.
Слепит глаза голубая стена,
К жалким мольбам равнодушно глуха.
Смерть же всегда вездесуще сильна,
Голода злого родная сестра.
Злая обманщица змейка-тропа,
Как бесконечность, не знает конца,
Смялась под телом осевшим трава,
Младшему сыну смыкая глаза.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно.
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Смерть в затяжном ожидании конца
Серою дымкой коснулась лица,
Грозно сгустилась вокруг тишина,
Кутая саваном вечного сна.
Тельце обмякшее, став тяжелей,
Жутко в податливой форме своей.
Каплей в палящей пустыне смертей
Тает дыхание тускнеющих дней.
Но сквозь мельканье размытых огней,
Ярким пятном в танце серых теней,
Ближе всё мать и от близости с ней,
Взгляд в полудымке стал будто ясней.
Степи голодные щедро укрыл
Тленных гноений смердящий настил.
Тают крупицы оставшихся сил,
Слушая зов мрачно-серых могил.
С меркнущих глаз чуть сошла пелена,
Пепельно-вязких сетей полусна.
Мысли тягучие мать бередя,
Смотрит в глаза мутнокрасного дня.
Кружат, играя все четче, ясней,
Краски дрожащих на солнце теней,
Плавают контуры голых степей,
Плавно скользя между серых камней.
Тихо склонилась над сыном она,
Чувствуя холод предсмертного сна,
В мраморно-сером покое лица
Необратимая близость конца.
Взгляд отрешённый по сыну скользя,
Кружит в агонии злого огня.
Но вдруг сквозь прорезь залипшего рта,
Выпало слово живое "АНА"!
Вздрогнула, взвыла, взревела душа,
В диком порыве сознание круша,
Снова въедается в бреши ума,
Грезя безумьем коварная тьма.
Вскрикнула мать, но в ответ тишина,
Мёртвенным эхом звенит пустота,
Падали камнем на сердце слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-а...
Болью безжалостной сердце точа,
Время нависло рукой палача.
Глухонемое, разбитое "я",
Чувства стирая, стирает себя.
Мрачною тенью нависла немой,
Слипшихся век не тревожа покой,
Туго сдавив как железной клешнёй,
Тонкую шейку костлявой рукой.
Пляшет в экстазе победная тьма
На острие раскладного ножа.
Ржавое лезвие в сыне топя,
Рвёт горло мать, проклиная себя!
Стонут народы, друг с другом деля
Мрачную участь слепого скота,
Дёргая нити, сидит у руля,
Подлый убийца, палач и судья!
В мире фантомных, холодных идей,
Что ему тысяча чьих-то смертей?
Множит руками своих палачей
Рабопокорное стадо людей.
Старшего сына пустые глаза
Сверлят предсмертной тоской небеса.
Тлеющим взором, стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Тёплая кровь орошала нутро,
В слабое тело вдыхая тепло.
В зное палящем пожухла земля,
Зверствует жатвы зловонной страда,
Стянута цепью калёной страна,
Дружбы народов большая тюрьма!
Снова восход, снова новый закат,
Страшной догадкой терзается брат.
Изредка женщина смотрит назад,
Будто спиной чей-то чувствуя взгляд.
Кружится, кружится чёрной бедой,
Ворон пресыщенный плотью людской,
Дарит земля телу тленный покой,
Скрыв расчленённый комочек родной.
Пройдено сколько не помнит никто,
Время смешало где после, где до.
Вдруг как виденье мелькнуло оно,
В мертвом пейзаже живое пятно.
Что это: Правда? Игра миража?
Не обманите, прошу вас, глаза!
Там впереди, выдавая дома,
Тянется змейкою дым очага!
"Мама!—кричит он не веря себе,—
Мама, смотри, там аул вдалеке!",
Но будто бредит она в полусне,
Мозг поражённый придав глухоте.
В ярко кровавых прожилках глаза,
Смотрят растерянно, сквозь, в никуда,
Разум взрывается, сердце щадя,
Бедная женщина сходит с ума.
А где-то там, в серых стенах Кремля,
Бродит чудовище, трубкой дымя,
Бога низвергнув, вознёс Сатана,
В богобезверии боговождя!
В мире блаженной нет горя и зла,
Лишь только вздрогнет она иногда,
В шёпоте ветра услышав слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-
Шаром калёным гудит голова,
Воет желудок, к спасенью гоня,
Вдруг, как тугая, стальная клешня,
Горло сдавила мужская рука.
Плотно накрыла глаза пелена,
Душу сдавила глухая стена,
Сыто-хмельным возбужденьем горя,
Тело он женское смял под себя.
Всё неизменно в природе Кремля,
В поисках образа злого врага.
"Все виноваты, но только не я,
Правда одна, но лишь та, что моя"!
Младшего сына пустые глаза,
Сверлят предсмертной тоской небеса,
Тлеющим взором стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело,
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Струйка сорпы орошала нутро,
В тощее тельце вдыхая тепло.
Старший, как зверь, исхудавший и злой,
Впился зубами в кусочек мясной,
Крючит от боли желудок больной,
Жадно давясь подступившей слюной.
Хмурятся тучи как неба укор,
В землю мать прячет свой пепельный взор,
Бёдра дрожат, обнажая позор,
Там, где разорван на части подол.
Воздух тяжёл, воздух зол, ядовит,
Червь из глазных выползает орбит.
Власти народа багровый зенит,
Кровью во имя него же омыт!
День остывает в разливах зари,
Снова к надежде размытой в пути,
Люди идут, но гнетёт изнутри,
Страх бесконечности мёртвой степи.
Там, где лениво паслись табуны,
Пыль поднимали, резвясь, скакуны,
Звонкие струны казахской домбры
Пели о счастье, добре и любви.
Там, распахнув ненасытную пасть,
Брызжет бедой ядовитая власть,
К власти дорвавшись, безродная масть
Грязно излила животную страсть!
Там мать, жена, дочь, ребёнок, сосед,
Прежних понятий стирается след.
Есть только голод душевных калек,
Где человечье забыл человек.
Там в лунном свете безликих ночей,
Роют могилы усопших людей,
В тусклом мелькании страшных теней
С тел вырезают места посвежей.
"Папа, спаси!"—эхо сдавленных слов
Ночь разнесла миллионам отцов,
Крик детской боли от рвущих клыков,
Лёгкой добычи для стаи волков.
Чествуя ложь большевистской чумы,
Лживые песни разносят рабы,
Ржа на цепи от обилья крови
Въелась, сдавив горло нищей страны.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву ничего.
Где же спасенье и есть ли оно?
Сверлит глаза безысходностью зло.
Спутались запад, юг, север, восток,
Путь безнадёжный как в пропасть бросок.
Долгих мучений тягучий виток,
Старший без сил молча валится с ног.
В небе тяжёлом плывут облака,
Глядя на ужас земной свысока,
В чёрную бездну срываясь, душа
К Богу взывает, спасение ища.
Слепит глаза голубая стена,
К жалким мольбам равнодушно глуха.
Смерть же всегда вездесуще сильна,
Голода злого родная сестра.
Злая обманщица змейка-тропа,
Как бесконечность, не знает конца,
Смялась под телом осевшим трава,
Младшему сыну смыкая глаза.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно.
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Смерть в затяжном ожидании конца
Серою дымкой коснулась лица,
Грозно сгустилась вокруг тишина,
Кутая саваном вечного сна.
Тельце обмякшее, став тяжелей,
Жутко в податливой форме своей.
Каплей в палящей пустыне смертей
Тает дыхание тускнеющих дней.
Но сквозь мельканье размытых огней,
Ярким пятном в танце серых теней,
Ближе всё мать и от близости с ней,
Взгляд в полудымке стал будто ясней.
Степи голодные щедро укрыл
Тленных гноений смердящий настил.
Тают крупицы оставшихся сил,
Слушая зов мрачно-серых могил.
С меркнущих глаз чуть сошла пелена,
Пепельно-вязких сетей полусна.
Мысли тягучие мать бередя,
Смотрит в глаза мутнокрасного дня.
Кружат, играя все четче, ясней,
Краски дрожащих на солнце теней,
Плавают контуры голых степей,
Плавно скользя между серых камней.
Тихо склонилась над сыном она,
Чувствуя холод предсмертного сна,
В мраморно-сером покое лица
Необратимая близость конца.
Взгляд отрешённый по сыну скользя,
Кружит в агонии злого огня.
Но вдруг сквозь прорезь залипшего рта,
Выпало слово живое "АНА"!
Вздрогнула, взвыла, взревела душа,
В диком порыве сознание круша,
Снова въедается в бреши ума,
Грезя безумьем коварная тьма.
Вскрикнула мать, но в ответ тишина,
Мёртвенным эхом звенит пустота,
Падали камнем на сердце слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-а...
Болью безжалостной сердце точа,
Время нависло рукой палача.
Глухонемое, разбитое "я",
Чувства стирая, стирает себя.
Мрачною тенью нависла немой,
Слипшихся век не тревожа покой,
Туго сдавив как железной клешнёй,
Тонкую шейку костлявой рукой.
Пляшет в экстазе победная тьма
На острие раскладного ножа.
Ржавое лезвие в сыне топя,
Рвёт горло мать, проклиная себя!
Стонут народы, друг с другом деля
Мрачную участь слепого скота,
Дёргая нити, сидит у руля,
Подлый убийца, палач и судья!
В мире фантомных, холодных идей,
Что ему тысяча чьих-то смертей?
Множит руками своих палачей
Рабопокорное стадо людей.
Старшего сына пустые глаза
Сверлят предсмертной тоской небеса.
Тлеющим взором, стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Тёплая кровь орошала нутро,
В слабое тело вдыхая тепло.
В зное палящем пожухла земля,
Зверствует жатвы зловонной страда,
Стянута цепью калёной страна,
Дружбы народов большая тюрьма!
Снова восход, снова новый закат,
Страшной догадкой терзается брат.
Изредка женщина смотрит назад,
Будто спиной чей-то чувствуя взгляд.
Кружится, кружится чёрной бедой,
Ворон пресыщенный плотью людской,
Дарит земля телу тленный покой,
Скрыв расчленённый комочек родной.
Пройдено сколько не помнит никто,
Время смешало где после, где до.
Вдруг как виденье мелькнуло оно,
В мертвом пейзаже живое пятно.
Что это: Правда? Игра миража?
Не обманите, прошу вас, глаза!
Там впереди, выдавая дома,
Тянется змейкою дым очага!
"Мама!—кричит он не веря себе,—
Мама, смотри, там аул вдалеке!",
Но будто бредит она в полусне,
Мозг поражённый придав глухоте.
В ярко кровавых прожилках глаза,
Смотрят растерянно, сквозь, в никуда,
Разум взрывается, сердце щадя,
Бедная женщина сходит с ума.
А где-то там, в серых стенах Кремля,
Бродит чудовище, трубкой дымя,
Бога низвергнув, вознёс Сатана,
В богобезверии боговождя!
В мире блаженной нет горя и зла,
Лишь только вздрогнет она иногда,
В шёпоте ветра услышав слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-
 Взвыло в бессилии сердце отца,
Чувствуя скорую близость конца,
Криком собрав по крупицам себя,
Прыгнул в объятья последнего дня.
Ржёт опъянённый от власти солдат,
Топит в изломанном теле приклад,
Бьёт торжествующей смерти набат,
В лужах крови улыбается ад!
Скрылся за жёлтою пылью конвой,
Тело отца волоча за собой,
Плоть остывала скользя за арбой,
Плакала степь безутешной вдовой.
Воет в разграбленной юрте пустой,
Ухая ветер, тоскою ночной,
Мечется бредя в горячке больной,
Всё ему чудится образ родной.
—Снова, отец, ты мерещишься мне,
Тенью мелькнёшь и расстаешь во мгле!
Где бы ты ни был, в какой стороне,
Знаю ты жив, ты вернёшься ко мне!
—Ты не узнаешь, сынок, никогда,
Где я, зачем увели и куда.
За плесневелую горстку пшена
Сгинул под белой парчой ковыля!
Скрылись виденья в хранилищах мглы,
Плач разорвал пелену тишины,
Варит мать детям подобье еды,
Мутный отвар старой кожи овцы.
Взвыло в бессилии сердце отца,
Чувствуя скорую близость конца,
Криком собрав по крупицам себя,
Прыгнул в объятья последнего дня.
Ржёт опъянённый от власти солдат,
Топит в изломанном теле приклад,
Бьёт торжествующей смерти набат,
В лужах крови улыбается ад!
Скрылся за жёлтою пылью конвой,
Тело отца волоча за собой,
Плоть остывала скользя за арбой,
Плакала степь безутешной вдовой.
Воет в разграбленной юрте пустой,
Ухая ветер, тоскою ночной,
Мечется бредя в горячке больной,
Всё ему чудится образ родной.
—Снова, отец, ты мерещишься мне,
Тенью мелькнёшь и расстаешь во мгле!
Где бы ты ни был, в какой стороне,
Знаю ты жив, ты вернёшься ко мне!
—Ты не узнаешь, сынок, никогда,
Где я, зачем увели и куда.
За плесневелую горстку пшена
Сгинул под белой парчой ковыля!
Скрылись виденья в хранилищах мглы,
Плач разорвал пелену тишины,
Варит мать детям подобье еды,
Мутный отвар старой кожи овцы.
 С окон бесшумно сползла как змея,
Выпустив алое жало заря,
Траурной вестницей брезжит неся,
Чёрные тяготы нового дня.
"Слушай, сыночек, ты должен понять,—
К старшему сыну склоняется мать,—
Стелется холодом мёртвая гладь,
Больше нельзя нам и нечего ждать.
Сколько осталось нам дней и ночей,
Ложью клеймённых в игре палачей,
Среди запуганных, бедных людей
Выжить теперь нам ещё тяжелей.
Всё безысходностью предрешено,
Путь наш к аулу отца моего.
Что, кроме смерти здесь ждёт? Ничего!
Может быть, там нам спастись суждено."
Так мать решила. И следом за ней
Шли дети мимо зловещих теней,
Еле живых, истощённых людей,
Прочь от голодных двуногих зверей.
Шли дети тихо за матерью вслед,
Вот уже пройден угрюмый хребет,
Огненным оком пылает рассвет,
Знают, пути им обратного нет.
Шли, созерцая закат и восход,
За равнодушный степной горизонт,
Шли мимо юрт, где никто не живёт,
Будто бы вымер казахский народ.
Смрадом исходит мясной перегной,
Степи покрыв, как гнилою ботвой,
Хрустнут вдруг кости под шаткой ногой,
Полуживого зовя за собой.
Пройдено сколько, не помнит никто,
Время смешало где после, где до,
А в воспалённом мозгу лишь одно:
Мысли о пище, какой—всё равно.
Рыбе, заплывшей на мелкое дно,
Птице, себе повредившей крыло,
Сладких кореньях, личинках—всё то,
Что их от смерти спасти бы смогло.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву—ничего.
Где же ты, где ты, живое село?
Дышит в затылок всесильное зло.
С окон бесшумно сползла как змея,
Выпустив алое жало заря,
Траурной вестницей брезжит неся,
Чёрные тяготы нового дня.
"Слушай, сыночек, ты должен понять,—
К старшему сыну склоняется мать,—
Стелется холодом мёртвая гладь,
Больше нельзя нам и нечего ждать.
Сколько осталось нам дней и ночей,
Ложью клеймённых в игре палачей,
Среди запуганных, бедных людей
Выжить теперь нам ещё тяжелей.
Всё безысходностью предрешено,
Путь наш к аулу отца моего.
Что, кроме смерти здесь ждёт? Ничего!
Может быть, там нам спастись суждено."
Так мать решила. И следом за ней
Шли дети мимо зловещих теней,
Еле живых, истощённых людей,
Прочь от голодных двуногих зверей.
Шли дети тихо за матерью вслед,
Вот уже пройден угрюмый хребет,
Огненным оком пылает рассвет,
Знают, пути им обратного нет.
Шли, созерцая закат и восход,
За равнодушный степной горизонт,
Шли мимо юрт, где никто не живёт,
Будто бы вымер казахский народ.
Смрадом исходит мясной перегной,
Степи покрыв, как гнилою ботвой,
Хрустнут вдруг кости под шаткой ногой,
Полуживого зовя за собой.
Пройдено сколько, не помнит никто,
Время смешало где после, где до,
А в воспалённом мозгу лишь одно:
Мысли о пище, какой—всё равно.
Рыбе, заплывшей на мелкое дно,
Птице, себе повредившей крыло,
Сладких кореньях, личинках—всё то,
Что их от смерти спасти бы смогло.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву—ничего.
Где же ты, где ты, живое село?
Дышит в затылок всесильное зло.
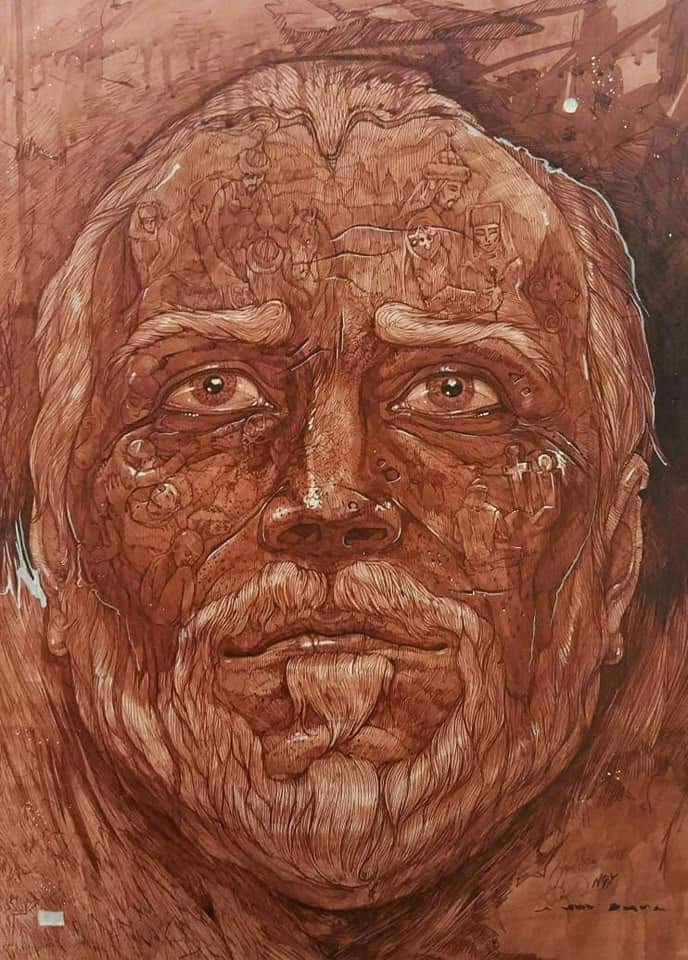 Младший, не чувствуя собственных ног,
Словно засохший осенний листок,
В землю уткнулся, свернувшись в клубок,
Долгих мучений тяжёлый итог.
В замершем вздохе земного конца
Таяла жизнь, как на солнце роса,
Мечется мать, миг утраты кляня,
Крепко к груди прижимая дитя.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно,
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Вдруг нежно-робкий порыв ветерка,
Сквозь оголённые нервы скользя,
Запахом пряным сознанье пьяня,
Тихо шепнул: "Где-то рядом еда!"
Зверем сорвавшимся диким с цепи,
Ринулась мать, чуя запах еды,
Гончей, напавшей на чьи-то следы,
Силой слепой, материнской любви.
"Мама успеет, сынок, потерпи!—
Все повторяла молитвой в пути,—
Боже, Всевышний, услышь, помоги,
Сына от смерти, прошу, сбереги!"
Горько вздыхает с немой синевы,
Тенгри, забытый когда-то людьми.
В недрах распятой врагами земли,
Плачет Умай, захлебнувшись в крови!
Вот показался дымок вдалеке,
Женщина сжалась, пригнувшись к земле,
Затрепетала надежда в душе,
Тело гоня к долгожданной еде.
К месту спасенья все ближе она,
Вот уже слышно трещанье костра,
Брызги кипящей сорпы из котла,
Вкусом дурманящим сводят с ума.
Вдруг впереди чьей-то тенью легла
В жёлтой траве, притаившись, беда.
Страхом расправы трепещет душа,
Стынет мать в ужасе, еле дыша.
Дремлет угроза за плёнкою сна,
В невозмутимом покое лица,
Эхом разносит вокруг тишина
Сытый, размеренный храп мужика.
Мозг дребезжит оголённой струной,
Собственный шаг будто чей-то, чужой,
Сердце, цепляясь за образ родной,
Гонит вперед, страх глуша, за едой.
Лижут чугун полымя языки,
В брызгах шипящих от струек сорпы,
Взбухли на пальцах худых волдыри,
Падает крышка в прохладу травы.
В ужасе диком застыла она,
Тщетно сторгая, что видят глаза,
Кружит в наваристой муте котла,
Кость оголив, человечья нога!
Грозно нависла вокруг тишина,
Бреши сознанья безумьем скребя,
Прячась в остатках последнего "я",
Ждет терпеливо забвения тьма.
Раненый мозг как в болезненном сне
Вяло блуждает в немой пустоте,
Ближе сознание к спасительной мгле,
Ближе к ужасной, но всё же еде.
"Ну же, попробуй, не бойся меня!
Что для тебя я? Всего лишь еда!"
Взгляд завороженно смотрит туда,
Где то пугает, то манит она.
Младший, не чувствуя собственных ног,
Словно засохший осенний листок,
В землю уткнулся, свернувшись в клубок,
Долгих мучений тяжёлый итог.
В замершем вздохе земного конца
Таяла жизнь, как на солнце роса,
Мечется мать, миг утраты кляня,
Крепко к груди прижимая дитя.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно,
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Вдруг нежно-робкий порыв ветерка,
Сквозь оголённые нервы скользя,
Запахом пряным сознанье пьяня,
Тихо шепнул: "Где-то рядом еда!"
Зверем сорвавшимся диким с цепи,
Ринулась мать, чуя запах еды,
Гончей, напавшей на чьи-то следы,
Силой слепой, материнской любви.
"Мама успеет, сынок, потерпи!—
Все повторяла молитвой в пути,—
Боже, Всевышний, услышь, помоги,
Сына от смерти, прошу, сбереги!"
Горько вздыхает с немой синевы,
Тенгри, забытый когда-то людьми.
В недрах распятой врагами земли,
Плачет Умай, захлебнувшись в крови!
Вот показался дымок вдалеке,
Женщина сжалась, пригнувшись к земле,
Затрепетала надежда в душе,
Тело гоня к долгожданной еде.
К месту спасенья все ближе она,
Вот уже слышно трещанье костра,
Брызги кипящей сорпы из котла,
Вкусом дурманящим сводят с ума.
Вдруг впереди чьей-то тенью легла
В жёлтой траве, притаившись, беда.
Страхом расправы трепещет душа,
Стынет мать в ужасе, еле дыша.
Дремлет угроза за плёнкою сна,
В невозмутимом покое лица,
Эхом разносит вокруг тишина
Сытый, размеренный храп мужика.
Мозг дребезжит оголённой струной,
Собственный шаг будто чей-то, чужой,
Сердце, цепляясь за образ родной,
Гонит вперед, страх глуша, за едой.
Лижут чугун полымя языки,
В брызгах шипящих от струек сорпы,
Взбухли на пальцах худых волдыри,
Падает крышка в прохладу травы.
В ужасе диком застыла она,
Тщетно сторгая, что видят глаза,
Кружит в наваристой муте котла,
Кость оголив, человечья нога!
Грозно нависла вокруг тишина,
Бреши сознанья безумьем скребя,
Прячась в остатках последнего "я",
Ждет терпеливо забвения тьма.
Раненый мозг как в болезненном сне
Вяло блуждает в немой пустоте,
Ближе сознание к спасительной мгле,
Ближе к ужасной, но всё же еде.
"Ну же, попробуй, не бойся меня!
Что для тебя я? Всего лишь еда!"
Взгляд завороженно смотрит туда,
Где то пугает, то манит она.
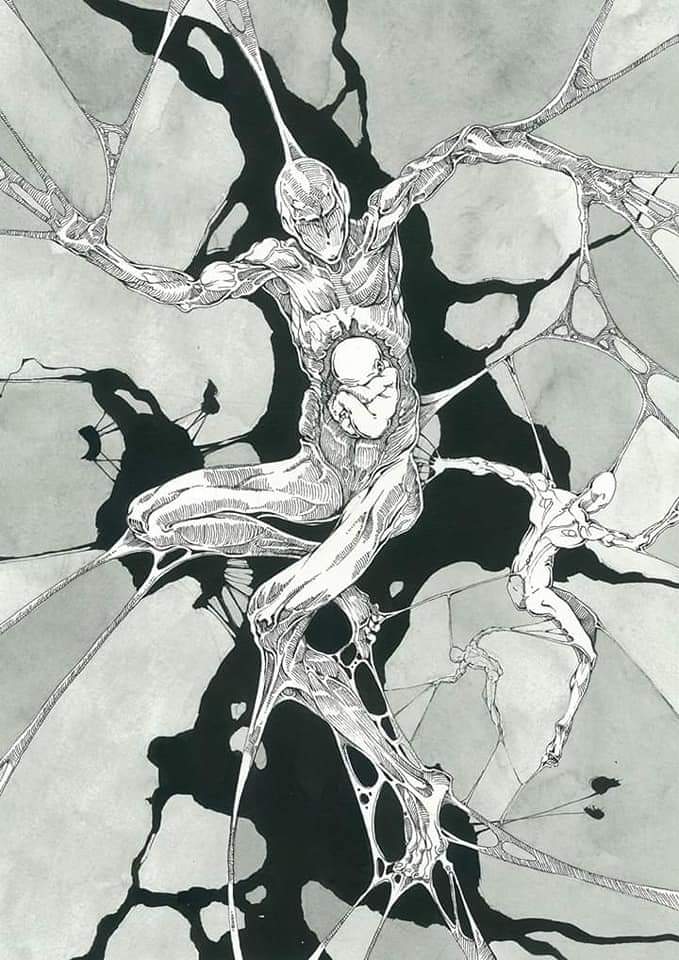 Шаром калёным гудит голова,
Воет желудок, к спасенью гоня,
Вдруг, как тугая, стальная клешня,
Горло сдавила мужская рука.
Плотно накрыла глаза пелена,
Душу сдавила глухая стена,
Сыто-хмельным возбужденьем горя,
Тело он женское смял под себя.
Всё неизменно в природе Кремля,
В поисках образа злого врага.
"Все виноваты, но только не я,
Правда одна, но лишь та, что моя"!
Младшего сына пустые глаза,
Сверлят предсмертной тоской небеса,
Тлеющим взором стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело,
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Струйка сорпы орошала нутро,
В тощее тельце вдыхая тепло.
Старший, как зверь, исхудавший и злой,
Впился зубами в кусочек мясной,
Крючит от боли желудок больной,
Жадно давясь подступившей слюной.
Хмурятся тучи как неба укор,
В землю мать прячет свой пепельный взор,
Бёдра дрожат, обнажая позор,
Там, где разорван на части подол.
Воздух тяжёл, воздух зол, ядовит,
Червь из глазных выползает орбит.
Власти народа багровый зенит,
Кровью во имя него же омыт!
День остывает в разливах зари,
Снова к надежде размытой в пути,
Люди идут, но гнетёт изнутри,
Страх бесконечности мёртвой степи.
Там, где лениво паслись табуны,
Пыль поднимали, резвясь, скакуны,
Звонкие струны казахской домбры
Пели о счастье, добре и любви.
Там, распахнув ненасытную пасть,
Брызжет бедой ядовитая власть,
К власти дорвавшись, безродная масть
Грязно излила животную страсть!
Там мать, жена, дочь, ребёнок, сосед,
Прежних понятий стирается след.
Есть только голод душевных калек,
Где человечье забыл человек.
Там в лунном свете безликих ночей,
Роют могилы усопших людей,
В тусклом мелькании страшных теней
С тел вырезают места посвежей.
"Папа, спаси!"—эхо сдавленных слов
Ночь разнесла миллионам отцов,
Крик детской боли от рвущих клыков,
Лёгкой добычи для стаи волков.
Чествуя ложь большевистской чумы,
Лживые песни разносят рабы,
Ржа на цепи от обилья крови
Въелась, сдавив горло нищей страны.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву ничего.
Где же спасенье и есть ли оно?
Сверлит глаза безысходностью зло.
Спутались запад, юг, север, восток,
Путь безнадёжный как в пропасть бросок.
Долгих мучений тягучий виток,
Старший без сил молча валится с ног.
В небе тяжёлом плывут облака,
Глядя на ужас земной свысока,
В чёрную бездну срываясь, душа
К Богу взывает, спасение ища.
Слепит глаза голубая стена,
К жалким мольбам равнодушно глуха.
Смерть же всегда вездесуще сильна,
Голода злого родная сестра.
Злая обманщица змейка-тропа,
Как бесконечность, не знает конца,
Смялась под телом осевшим трава,
Младшему сыну смыкая глаза.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно.
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Смерть в затяжном ожидании конца
Серою дымкой коснулась лица,
Грозно сгустилась вокруг тишина,
Кутая саваном вечного сна.
Тельце обмякшее, став тяжелей,
Жутко в податливой форме своей.
Каплей в палящей пустыне смертей
Тает дыхание тускнеющих дней.
Но сквозь мельканье размытых огней,
Ярким пятном в танце серых теней,
Ближе всё мать и от близости с ней,
Взгляд в полудымке стал будто ясней.
Степи голодные щедро укрыл
Тленных гноений смердящий настил.
Тают крупицы оставшихся сил,
Слушая зов мрачно-серых могил.
С меркнущих глаз чуть сошла пелена,
Пепельно-вязких сетей полусна.
Мысли тягучие мать бередя,
Смотрит в глаза мутнокрасного дня.
Кружат, играя все четче, ясней,
Краски дрожащих на солнце теней,
Плавают контуры голых степей,
Плавно скользя между серых камней.
Тихо склонилась над сыном она,
Чувствуя холод предсмертного сна,
В мраморно-сером покое лица
Необратимая близость конца.
Взгляд отрешённый по сыну скользя,
Кружит в агонии злого огня.
Но вдруг сквозь прорезь залипшего рта,
Выпало слово живое "АНА"!
Вздрогнула, взвыла, взревела душа,
В диком порыве сознание круша,
Снова въедается в бреши ума,
Грезя безумьем коварная тьма.
Вскрикнула мать, но в ответ тишина,
Мёртвенным эхом звенит пустота,
Падали камнем на сердце слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-а...
Болью безжалостной сердце точа,
Время нависло рукой палача.
Глухонемое, разбитое "я",
Чувства стирая, стирает себя.
Мрачною тенью нависла немой,
Слипшихся век не тревожа покой,
Туго сдавив как железной клешнёй,
Тонкую шейку костлявой рукой.
Пляшет в экстазе победная тьма
На острие раскладного ножа.
Ржавое лезвие в сыне топя,
Рвёт горло мать, проклиная себя!
Стонут народы, друг с другом деля
Мрачную участь слепого скота,
Дёргая нити, сидит у руля,
Подлый убийца, палач и судья!
В мире фантомных, холодных идей,
Что ему тысяча чьих-то смертей?
Множит руками своих палачей
Рабопокорное стадо людей.
Старшего сына пустые глаза
Сверлят предсмертной тоской небеса.
Тлеющим взором, стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Тёплая кровь орошала нутро,
В слабое тело вдыхая тепло.
В зное палящем пожухла земля,
Зверствует жатвы зловонной страда,
Стянута цепью калёной страна,
Дружбы народов большая тюрьма!
Снова восход, снова новый закат,
Страшной догадкой терзается брат.
Изредка женщина смотрит назад,
Будто спиной чей-то чувствуя взгляд.
Кружится, кружится чёрной бедой,
Ворон пресыщенный плотью людской,
Дарит земля телу тленный покой,
Скрыв расчленённый комочек родной.
Пройдено сколько не помнит никто,
Время смешало где после, где до.
Вдруг как виденье мелькнуло оно,
В мертвом пейзаже живое пятно.
Что это: Правда? Игра миража?
Не обманите, прошу вас, глаза!
Там впереди, выдавая дома,
Тянется змейкою дым очага!
"Мама!—кричит он не веря себе,—
Мама, смотри, там аул вдалеке!",
Но будто бредит она в полусне,
Мозг поражённый придав глухоте.
В ярко кровавых прожилках глаза,
Смотрят растерянно, сквозь, в никуда,
Разум взрывается, сердце щадя,
Бедная женщина сходит с ума.
А где-то там, в серых стенах Кремля,
Бродит чудовище, трубкой дымя,
Бога низвергнув, вознёс Сатана,
В богобезверии боговождя!
В мире блаженной нет горя и зла,
Лишь только вздрогнет она иногда,
В шёпоте ветра услышав слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-
Шаром калёным гудит голова,
Воет желудок, к спасенью гоня,
Вдруг, как тугая, стальная клешня,
Горло сдавила мужская рука.
Плотно накрыла глаза пелена,
Душу сдавила глухая стена,
Сыто-хмельным возбужденьем горя,
Тело он женское смял под себя.
Всё неизменно в природе Кремля,
В поисках образа злого врага.
"Все виноваты, но только не я,
Правда одна, но лишь та, что моя"!
Младшего сына пустые глаза,
Сверлят предсмертной тоской небеса,
Тлеющим взором стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело,
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Струйка сорпы орошала нутро,
В тощее тельце вдыхая тепло.
Старший, как зверь, исхудавший и злой,
Впился зубами в кусочек мясной,
Крючит от боли желудок больной,
Жадно давясь подступившей слюной.
Хмурятся тучи как неба укор,
В землю мать прячет свой пепельный взор,
Бёдра дрожат, обнажая позор,
Там, где разорван на части подол.
Воздух тяжёл, воздух зол, ядовит,
Червь из глазных выползает орбит.
Власти народа багровый зенит,
Кровью во имя него же омыт!
День остывает в разливах зари,
Снова к надежде размытой в пути,
Люди идут, но гнетёт изнутри,
Страх бесконечности мёртвой степи.
Там, где лениво паслись табуны,
Пыль поднимали, резвясь, скакуны,
Звонкие струны казахской домбры
Пели о счастье, добре и любви.
Там, распахнув ненасытную пасть,
Брызжет бедой ядовитая власть,
К власти дорвавшись, безродная масть
Грязно излила животную страсть!
Там мать, жена, дочь, ребёнок, сосед,
Прежних понятий стирается след.
Есть только голод душевных калек,
Где человечье забыл человек.
Там в лунном свете безликих ночей,
Роют могилы усопших людей,
В тусклом мелькании страшных теней
С тел вырезают места посвежей.
"Папа, спаси!"—эхо сдавленных слов
Ночь разнесла миллионам отцов,
Крик детской боли от рвущих клыков,
Лёгкой добычи для стаи волков.
Чествуя ложь большевистской чумы,
Лживые песни разносят рабы,
Ржа на цепи от обилья крови
Въелась, сдавив горло нищей страны.
Ноги, сгинаясь идут тяжело,
Бред о еде, наяву ничего.
Где же спасенье и есть ли оно?
Сверлит глаза безысходностью зло.
Спутались запад, юг, север, восток,
Путь безнадёжный как в пропасть бросок.
Долгих мучений тягучий виток,
Старший без сил молча валится с ног.
В небе тяжёлом плывут облака,
Глядя на ужас земной свысока,
В чёрную бездну срываясь, душа
К Богу взывает, спасение ища.
Слепит глаза голубая стена,
К жалким мольбам равнодушно глуха.
Смерть же всегда вездесуще сильна,
Голода злого родная сестра.
Злая обманщица змейка-тропа,
Как бесконечность, не знает конца,
Смялась под телом осевшим трава,
Младшему сыну смыкая глаза.
Грузные веки поднять тяжело,
Тянет забвенье в загробное дно.
Есть лишь покой, и уже ничего
Не потревожит сердечко его.
Смерть в затяжном ожидании конца
Серою дымкой коснулась лица,
Грозно сгустилась вокруг тишина,
Кутая саваном вечного сна.
Тельце обмякшее, став тяжелей,
Жутко в податливой форме своей.
Каплей в палящей пустыне смертей
Тает дыхание тускнеющих дней.
Но сквозь мельканье размытых огней,
Ярким пятном в танце серых теней,
Ближе всё мать и от близости с ней,
Взгляд в полудымке стал будто ясней.
Степи голодные щедро укрыл
Тленных гноений смердящий настил.
Тают крупицы оставшихся сил,
Слушая зов мрачно-серых могил.
С меркнущих глаз чуть сошла пелена,
Пепельно-вязких сетей полусна.
Мысли тягучие мать бередя,
Смотрит в глаза мутнокрасного дня.
Кружат, играя все четче, ясней,
Краски дрожащих на солнце теней,
Плавают контуры голых степей,
Плавно скользя между серых камней.
Тихо склонилась над сыном она,
Чувствуя холод предсмертного сна,
В мраморно-сером покое лица
Необратимая близость конца.
Взгляд отрешённый по сыну скользя,
Кружит в агонии злого огня.
Но вдруг сквозь прорезь залипшего рта,
Выпало слово живое "АНА"!
Вздрогнула, взвыла, взревела душа,
В диком порыве сознание круша,
Снова въедается в бреши ума,
Грезя безумьем коварная тьма.
Вскрикнула мать, но в ответ тишина,
Мёртвенным эхом звенит пустота,
Падали камнем на сердце слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-а...
Болью безжалостной сердце точа,
Время нависло рукой палача.
Глухонемое, разбитое "я",
Чувства стирая, стирает себя.
Мрачною тенью нависла немой,
Слипшихся век не тревожа покой,
Туго сдавив как железной клешнёй,
Тонкую шейку костлявой рукой.
Пляшет в экстазе победная тьма
На острие раскладного ножа.
Ржавое лезвие в сыне топя,
Рвёт горло мать, проклиная себя!
Стонут народы, друг с другом деля
Мрачную участь слепого скота,
Дёргая нити, сидит у руля,
Подлый убийца, палач и судья!
В мире фантомных, холодных идей,
Что ему тысяча чьих-то смертей?
Множит руками своих палачей
Рабопокорное стадо людей.
Старшего сына пустые глаза
Сверлят предсмертной тоской небеса.
Тлеющим взором, стремясь в никуда,
За горизонт уходящего дня.
Жизнь возвращалась к нему тяжело
Сквозь жерло смерти глухое кольцо,
Тёплая кровь орошала нутро,
В слабое тело вдыхая тепло.
В зное палящем пожухла земля,
Зверствует жатвы зловонной страда,
Стянута цепью калёной страна,
Дружбы народов большая тюрьма!
Снова восход, снова новый закат,
Страшной догадкой терзается брат.
Изредка женщина смотрит назад,
Будто спиной чей-то чувствуя взгляд.
Кружится, кружится чёрной бедой,
Ворон пресыщенный плотью людской,
Дарит земля телу тленный покой,
Скрыв расчленённый комочек родной.
Пройдено сколько не помнит никто,
Время смешало где после, где до.
Вдруг как виденье мелькнуло оно,
В мертвом пейзаже живое пятно.
Что это: Правда? Игра миража?
Не обманите, прошу вас, глаза!
Там впереди, выдавая дома,
Тянется змейкою дым очага!
"Мама!—кричит он не веря себе,—
Мама, смотри, там аул вдалеке!",
Но будто бредит она в полусне,
Мозг поражённый придав глухоте.
В ярко кровавых прожилках глаза,
Смотрят растерянно, сквозь, в никуда,
Разум взрывается, сердце щадя,
Бедная женщина сходит с ума.
А где-то там, в серых стенах Кремля,
Бродит чудовище, трубкой дымя,
Бога низвергнув, вознёс Сатана,
В богобезверии боговождя!
В мире блаженной нет горя и зла,
Лишь только вздрогнет она иногда,
В шёпоте ветра услышав слова,
Х-о-л-о-д-н-о, м-а-м-
Поэт: Актан Шарип Художник: Алибек Койлакаевsen